О невкусной и нездоровой пище
Грубость и беспомощность исторического христианства, быть может, не в том более явлена, что христиане призваны к поеданию своего бога, как об этом нередко пишут, сколько в той, уже персональной, небрежности и бездумной торопливости, с какой они это делают. Неудивительно в этом аспекте, что энтелехией христианского храма в историческом, и не только, смысле стал фастфуд. Тело и кровь т. н. господа редуцировались посредством культуры употребления (вернее, конечно, бескультурья) в бигмак и пластиковый стакан кокаколы, которыми можно набить брюхо, но принципиально невозможно насладиться. Таким образом, вместо возвышенного и тонкого потребления, которое могло бы лечь в основу христианской этики и гастрономии, мы получили букет религиозной булимии, прямую зависимость мнимого довольства верующих от количества пожранного ими божества, скорости и частоты употребления его в пищу. Этому же способствовало и превращение большей части клира в нечто среднее между дилером и стажёром продавцом в макдональдсе. Нынешние деятели РПЦ (впрочем, и других конфессий) с таким же отменным задором и рьяностью, ошибочно трактующимися как религиозное рвение, голосят о новых успехах миссии, об открытых храмах и новообразованных приходах, с каким юное убожество за прилавком фастфуда выпискивает свою «свободную кассу». Это тем более отвратительно, что до сих пор ещё встречаются люди, готовые не только есть, но и платить за это деньгами.
Между тем, всякая устойчивая культура необходимо несёт в себе традиции тонкой и разнопланной организации потребления, когда удовольствие от приятия пищи («женственный» акт вбирания бытия) возгоняется посредством множественных эпитетов («мужской» поэсис), уходит от формульной однозначности «супа, плещущегося в мешке желудка» (Кортасар). Само слово ἐπίθετον даёт представление о некой надставке, в определённом смысле — насилии над данностью бытия. Однако насилие не есть нечто субстанционально определённое, но в большей степени оно может считаться эффектом модальности манифестации, одним из возможных, детерминированных чуткостью восприятия. Чем более открыто, чем более восприимчиво существо к колебаниям мирового монохорда, тем менее оно склонно видеть в этом насилие. Последнее без особого труда можно отнести к фигурам речи («вторичным» в отношении к собственно боли жизни), а стало быть, не лишено основания утверждение, что насилие есть лишь последний эпитет для последних (читай: не способных к восприятию остальных) людей.
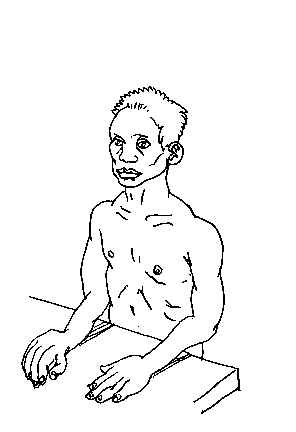
Отвлечённый к совершенной вещности поиск, постав, обращённый в себя, оказывается в конце дискретным числовым тождеством; поедание еды, пусть бы и божественной, в отказе от эпитезации сего акта приводит к чистой аутофагии (см. рис.) и окончательно консервирует существо в математической точке вне координат.
Во многом эта деградация искусства потребления обусловливает наше утверждение, что в настоящее время не осталось ни традиции, ни рецепта приготовления невредной еды. В подтверждение тому надо сказать, что любой ингредиент, из которого готовят здоровую пищу, in se представляет собою чистый яд. Искусство кулинарии, посредством сложных операций, изначально носивших характер тотальной эпитезации, добивалось того, что вред обращало в пользу, а яд в эссенцию, таким образом сохраняя и здоровье популяции, и нетронутость ресурсов, поскольку в конечном счёте человек питался исключительно поэтическим эликсиром ядовитой материи.
То же самое относится и к тому, с чего мы начали этот разговор, а именно — традиции богопоедания в христианской секте. Можем заключить на основании сказанного, что наилучшим вариантом евхаристии был бы тот случай, когда паства и клир в радении проводили бы поэтическую возгонку божественной еды и насыщались этим духовно до той степени, когда вид пресуществлённого тела и крови т. н. господа не вызывал бы у них никакого желания продолжать банкет. Но, откровенно говоря, не очень-то и верится в возможность скорого исправления ситуации в указанном здесь направлении. Поэтому мы не находим ничего лучшего, как завершить этот разговор пожеланиями приятного аппетита.